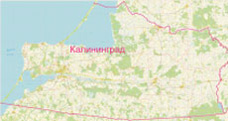|
|
ГАЗЕТА "СПАС" |
|
| |
|
|
№3 (72) март |
|

|
Каждый из нас мог бы светить
Из книги «У стен Церкви». Размышления православного христианина
 * * * * * *
Входит девушка в храм без косынки или стоит в храме, ничего еще не понимая, несколько боком, — на нее набрасываются, как ястребы, уставные женщины и выталкивают из храма. Может быть, она больше никогда в него не войдет. Помню, один священник говорил мне, что «оформление» атеизма его дочери совершилось в храме под впечатлением, полученным от злых старух. Борьбы с ними, кажется, никто не ведет. Впрочем, слышал я, что наместник одного монастыря недавно даже отлучил от причастия одну такую ревнительницу устава и человеконенавистницу. «Ты думаешь, что ты здесь хозяйка? — грозно говорил он ей при всех с амвона. — Не ты, а Матерь Божия». И еще я слышал, что один мудрый московский протоиерей называет этих женщин «православными ведьмами».
* * *
Я видел неверующих священников, гордящихся знанием и соблюдением устава. То, что было создано в монастырях византийского Средневековья, они исполняли, не имея веры евангельской. Без нее же всякое «типиконство» есть нечто крайне тягостное, духовно невыносимое: на грозную пустоту церковной действительности оно набрасывает покрывало какого-то византийского благополучия — у нас, мол, все в порядке, так как мы пропели все десять стихир, а не девять, и именно шестым гласом, а не пятым.
Опасность устава начинается тогда, когда забывается его историческая условность и его начинают как бы догматизировать, возводить в догмат. Тогда и возникает это «сцеживание комаров и поглощение верблюдов», то есть подмена христианства ветхозаветной обрядностью.
Уставом нельзя пренебрегать, но всегда при этом надо помнить: «Суббота для человека, а не человек для субботы» устава, то есть во имя любви к людям устав можно изменять. В этом смысле отец Алексий Мечёв и говорил: «Любовь выше устава».
Знаю, что понятие этой мудрости любви для нелюбящих людей очень неопределенно, но это предвидел апостол, сказавши: «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему».
Сочетание свободы любви с уставом возможно только тогда, когда в человеке все стоит на своем месте: безусловное — на первом, условное — на втором. О безусловном нам сказано ясно: «Ищите прежде Царства Божия и правды его, а это все приложится вам». Царство Божие «внутри нас» (Лк 17:21), в благодати Святого Духа. Поэтому особенно в наше время ухода от основ христианства, от его духовности не о том надо прежде всего болеть, что не знают устава, но о том, что так мало людей знают, что стяжание Святого Духа должно быть постоянной, ежедневной целью каждого христианина. Это апостольское учение вновь произнесено у нас преподобным Серафимом Саровским.
Сочетание свободы с уставом возможно только через духовность, через стяжание Святого Духа. И тогда сама собой разрешается антиномия, на одной стороне которой: «Устав — это Святое Предание», а на другой — слова: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал 5:18) устава.
* * *
Весь смысл и вся крепость нашей жизни в том, чтобы накапливать в сердце Божие богатство — духовное свое счастье, свою радость о Боге и о жизни на Его земле, с Его людьми. Богатство это не наше, а Божие, и что-то особенно радостное есть именно в том, что оно не наше, что мы наконец освободились в нем от себя. Оно — «сокровище смиренных», и чаще всего мы можем о нем только вздыхать.
<…> Две истины, как два ясных светильника, стоят у входа в христианство, у входа в человеческое счастье: теплейшее чувство земли и еще более теплое, если это возможно, чувство той мироотреченности, которая лучше всего выражена в эпитафии на могиле Григория Сковороды, странника и мудреца XVIII века: «Мир ловил меня, но не поймал».
| Святость в христианстве — это и есть любовь |
* * *
Религиозные прозрения некоторых писателей, например Достоевского или Пастернака, были посылаемы миру от Бога для какого-то восполнения пустоты религиозной литературы их времени, для какой-то духовной компенсации. Иногда их можно расценивать даже как «глас» валаамовой ослицы, «остановившей безумие пророка».
Причем интересно, что все религиозно-ценное, что есть в мировой литературе, восходит не к учено-богословскому рационализму, но к золоту подлинной письменности Церкви. Вот один пример. Отцы-подвижники очень советовали заучивать наизусть отдельные куски Нового Завета и Псалтири, чтобы постоянно жить в них. Брэдбери, конечно, об этом не знал, когда вложил в сердца людей христианской цивилизации, живших в условиях атомного одичания, идею заучивания наизусть глав Евангелия, чтобы пронести их в темноте как золотые звенья человечества.
Я думаю, этот совет и отцов, и романиста надо осуществлять и нам, введя в свое ежедневное молитвенное правило некоторые наиболее любимые куски новозаветного текста, заученные наизусть. Это нам может еще особенно пригодиться.
* * *
Гоголь издавал свою благочестивую «Переписку» с самыми благими православными намерениями, а оптинские старцы ей не доверяли. На церковном Западе «Сущность богословия» Фомы Аквинского считается богословским основанием Католической Церкви, а Бердяев точно сказал об этой книге: «Если бы я прочел ее всю, я, может быть, стал бы неверующим».
И наоборот, можно приблизиться к вере или укрепиться в ней через некоторые стихи Лермонтова, Тютчева, Пастернака или Блока. Я уже не говорю о Достоевском или Лескове. У меня был близкий человек, просидевший год в одиночке с книгой Достоевского и сделавшийся за этот год из неверующего верующим. О Брэдбери кто-то сказал, что у него апокалипсическое прозрение Запада.
Какой же из этого вывод? Надо и в этом быть «мудрым, как змей, и простым, как голубь». Литература полна хаоса и развращенности. Не только не нужно, но прямо вредно все подряд читать. Но не надо отрицать возможность увидеть свет и в этом темном лесу. Если люди от Бога, то и стихи их могут быть от Бога. «Все из Него, Им и к Нему», ибо, как говорит тот же апостол, цитируя в своей религиозной проповеди языческие стихи, «мы Его и род» (Деян 17:28).
* * *
Любовь есть качество воли, или, как говорил митрополит Николай Кавасила (XIV век), «добродетель воли». Бог ждет от нас только этой нашей воли к Нему, то есть любви, и дает Себя людям не за дела их и подвиги, в порядке какой-то оплаты, а только за эту волю — любовь, за возжелание Его бытия, за волю к жизни. Бог-Любовь ждет любви, а потому ждет воли. Человек — весь в путах первородного греха и сам по себе ничего не может сделать, чтобы обрести Бога, то есть свое спасение, кроме того, чтобы возжелать Его, потянуться к Нему своей волей. И Бог, видя эту свободную волю, дает человеку помощь своей благодати, через которую и приближает его к Себе, и совершает в нем все его благие дела. Не человек совершает своей силой, но благодать Божия — ради человеческой воли, то есть ради любви, обнаружившей себя попыткой «трудолюбного делания» в подвиге.
Именно на этом основано учение Церкви о спасении человека даром, за смиренную веру, а не в виде вознаграждения, как учит Рим. Подвиг есть только обнаружение или признак благой воли — любви к Богу. Духовный труд совершенно обязателен, но все, что человек обретает, — это не его, но Божие, и обретает он не через труд, но по милости Божией. «Хотя бы мы взошли на самый верх добродетели, но спасаемся все же по милости».
Это одна из самых поразительных и самых радостных антиномий христианства. Радостно осознать наконец, что ты ничто и что «все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки»!
| Духовный труд совершенно обязателен |
* * *
Святость в христианстве — это и есть любовь, а не-любовь — не святость.
Природа любви непостижима, как природа Божественная, но одно мы знаем, что если есть гордость, то, значит, нет любви, что любовь есть смиренное забвение о себе, что она есть отдача себя для других — для Бога и детей Божиих.
Грех же, наоборот, есть «память о себе» и забвение других, самоутверждение и самоугождение, грубо-физическое или тонко-душевное. Поэтому все грехи есть большой или малый отказ от любви, большая или малая гордость.
«Попечения о плоти, — говорит апостол, — не превращайте в похоти», не самоуслаждайтесь, не побеждайтесь своей самостью. Но не то же ли самое, только в душе, совершается в общении с людьми, когда вместо отдачи себя им, хоть в самом малом забвении о себе и в самой малой заботе и тревоге за них, я занят опять же собой и внутренне себя перед ними утверждаю, и, разговаривая с ними, посматриваю на себя в зеркало? А когда я стою на молитве, то не бывает ли так, что вместо Бога я молюсь «на самого себя», любуясь собой или пребывая в тщеславии? Во всем этом и во множестве другого — когда я осуждаю, обижаюсь, раздражаюсь, ненавижу, присваиваю, жадничаю — я в основе всегда делаю одно и то же: утверждаю себя, свою грешную самость, свое «я» вместо «не я», вместо Бога и людей, вместо любви.
И наоборот. Перечислив многие совершенства, к которым мы призываемся (а в их лице все остальные совершенства), апостол заключает: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства», ибо в ней совокупно существует весь путь к Богу. Она низлагает гордость, отметает самость и самоугождение — плоти и духа. Вот почему существует мрак не только разврата, но и ложной добродетели, не только безделья, но и подвига, или, как говорили святые отцы, «лучше поражение со смирением, чем добродетель с гордостью». Вот почему истинная святость и любовь есть одно и то же. Блаженный Августин так говорил: «Всякая добродетель есть любовь».
Для того чтобы понять это опытно, некоторым нужно прожить десятки лет, слушая слова отцов, учителей светлейшего подвига. Это корень аскетики, которая и есть борьба за любовь в себе и в мире.
* * *
Самое, может быть, трудное в смирении — это смиренно не требовать от других любви к себе. Наверное, можно воздыхать об этом («Господи! Я замерзаю»), но нельзя требовать, даже внутренне. Ведь нам дана заповедь о нашей любви к людям, но заповеди о том, чтобы мы требовали любви к себе от этих людей, нам нигде не дано. Любовь и есть в том, чтобы ничего для себя не требовать. И когда это есть, тогда опускается в сердце, как солнечная птица, Божия любовь и заполняет все.
* * *
Тяжкую вину несет всякий, кто, получив знание и света и тьмы, не определил себя к свету. Достоевский где-то сказал: «Каждый из нас мог бы светить, как “Единый безгрешный”, — и не светил!»
Сергей Фудель
|



 * * *
* * *